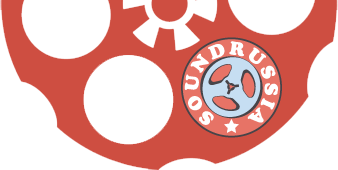Вначале в редакционных планах этот материал выглядел иначе. Мы собирались отметить День космонавтики, поговорив с музыкантами о самых что ни на есть высших материях - о космосе. Тем более что кроме календарной даты для этого появился еще один повод: запуск тяжелой ракеты «Ангара-А5», который дает надежду на то, что убитая постсовком космическая отрасль все же встает на ноги. Но разговор принял неожиданное направление. Наши собеседники решили взглянуть на космические проекты как на составную часть идеологии и культурной политики прошедшей эпохи. При этом выяснилось, что многие постсоветские стереотипы все еще крайне устойчивы в музыкальной среде – например, мифы об «оттепели». В то же время взгляд на «советский космос» как на воплощение идей русского космизма показался нам интересным, хотя и требующим кое-каких оговорок теологичекого характера . В итоге вместо интервью решено было опубликовать развернутый полемический ответ нашим собеседникам с изложением их позиции. Если с их стороны возникнет желание продолжить дискуссию в таком формате, мы непременно предоставим им «микрофон».
Кто прорубил окно в открытый космос?
Наши собеседники склонны понимать советский научный романтизм конца 1950- - начала 1960-х как сдвиг в идеологии. Даже более того – как альтернативную идеологию и результат смягчения Н.С. Хрущевым внутренней политики государства. При этом они ссылаются на последователей Льва Гумилёва из группы «Новые скифы». Те в свою очередь полагают, что полет Юрия Гагарина стал результатом поворота советского руководства к мировоззрению русского крестьянства, для которого всегда был характерен стихийный космизм. В каком-то смысле это был римейк эсеровского проекта в космическую эру. Космос для русских крестьян, говорят они, был «сакральной субстанцией», что не соответствовало материализму и приземленному технократизму «немца Ленина» и «грузина Сталина» - для последних космос был якобы «пустым звуком». «Новые скифы» сравнивают период хрущевской «оттепели» с Мужицким Царством из сказок и былин о Степане Разине и Емельяне Пугачеве, а также с «чевенгуровской мечтой платоновского персонажа Копенкина». В это время «пошли в разнос тюрьмы и остроги», «освободились евразийцы Пётр Савицкий и Лев Гумилёв, лидер партии левых эсеров Ирина Каховская», «началось массовое бесплатное жилищное строительство», проявился «целинный энтузиазм», а «официальной идеологией СССР стал Русский Космизм - идея всеединства и покорения Вселенной, сформулированная Гагариным-Фёдоровым, Константином Циолковским, Владимиром Соловьёвым и Владимиром Вернадским».
И вот за этот новый курс, который мы для краткости назвали «Хлеб, воля и Космос», по мысли наших собеседников, Н.С. Хрущева до сих пор ненавидят «всяческие охранители»: сталинисты, консерваторы, «православные черносотенцев»…
Мифология оттепели

Признаем, что картина крестьянской космической Эллады выглядит очень поэтично, хотя неявное противопоставление космизма православию в народном сознании оставляет не совсем неприятное чувство. Но отношение ко всему этому именно как к результату «оттепели», на наш взгляд, едва ли оправдано.
Прорывы такого масштаба и уровня, как советская космическая программа, не осуществляются за несколько лет. И получается, как ни крути, что научно-технический базис для этого создавался как в период сталинских «заморозков» (если принять эту терминологию), так и отчасти в дореволюционный период, такими людьми как К. Циолковский, В. Вернадский, а также, в организационном плане, Л. Берией и членами его команды. Иначе говоря, Никита Хрущев во многом использовал те заделы, которые были создано еще до его прихода.
Но, как известно, миф о Хрущеве и вообще мифология «оттепели» вызрели в среде советской интеллигенции. Что закономерно: ведь идеологическое послабление, «раскручивания гаек» касалось только этого слоя, а точнее, его привилегированной части. Этим людям было предложено по-новому обслуживать новую власть - показать Западу «социализм с человеческим лицом»
А как же остальные?
Остальные никакой «оттепели» не почувствовали. Крестьяне по-прежнему сидели в деревнях без паспортов, им было запрещено покидать колхозы. Посредством «укрупнения хозяйств» был нанесен мощнейший удар по малым деревням (борьба с деревней продолжается). Знаменитые участки 30 соток резались пополам - оставляли по 15. Запрещали даже держать скот во дворе. Все это стало результатом прямого партийного руководства экономикой. Дело в том, что вместо сталинской идеи сузить роль партии до чисто идеологической работы, отобрав у нее право хозяйственной деятельности, был взят противоположный курс: парткомы, горкомы и проч. принялись курировать хозяйственную деятельность – с неизменно превосходными результатами. Нарастала коррупция в среде бюрократии и волюнтаризм хозяйственных решений.
Что касается Церкви, то существует устойчивый термин - «хрущевские гонения». Фактически «оттепель» - это апогей репрессий против духовенства, превосходящий позднесталинский уровень, и апогей храмоборчества: в одном Ленинграде было разрушено несколько десятков храмов.
Для пролетариата конец 1950-х и начало 1960-х стали временем фантастической безработицы. Быстро росла инфляция, сделавшая неизбежной денежную реформу 1961 г. и рост цен (до Н.С. Хрущева они снижались), впервые после поствоенной стабилизации возник продуктовый дефицит.
Самая яркая иллюстрация «оттепельной» специфики – это, наверное, история в Новочеркасске. Новочеркасских рабочих, когда они попытались митинговать и бастовать, просто расстреляли. Да, до Н.С. Хрущева были «массовые посадки», но были ли до него массовые расстрелы (период гражданской войны, естественно, исключаем, это особая ситуация)?
По уточненным данным, около 100 человек погибло при подавлении выступления, семерым руководителям забастовки вынесли смертные приговоры (расстрел), 103 человека получили сроки от 2 до 15 лет.
Конечно, все это мало интересовало подлинных бенефициаров «оттепели», которые пели об «обновлении страны и партии». В чем заключалось обновление? Прежде всего в деградации идеологии. Решающую роль здесь сыграл принцип «соревнования двух систем». Позднее, уже в бытность Юрия Андропова генсеком, эта абсурдная идея превратилась в «конвергенцию двух систем», ну, а дальше дело естественным образом дошло и до капитуляции. То есть, до Беловежского пакта и колониальной Конституции 1993-го года.
Пресловутая «соревновательность» рубила под корень весь социалистический проект, поскольку извращала саму идею социализма. Состязаться могут равные субъекты. Но невозможно «состязание» между колонизаторами и колонизированными, между центром и периферией (пусть бывшей) капиталистического мира. Возможна лишь борьба за выживание. Вместе с этой борьбой негласно отменялась идея мирового освобождения пролетариата, который тогда еще на что-то надеялся.
Не менее губительным для СССР стал переход к идее советского варианта общества потребления – идее столь же провальный, как если бы «пироги стал печь сапожник» или «сапоги тачал пирожник».
Невозможно обойти вниманием и передачу Н.С. Хрущевым российского Крыма в состав УССР. Вот так легко и непринужденно еще один (помимо Киева) сакральный центр русского православия, Херсонес, был отнят у русских. Ведь Херсонес-Корсунь для нас – это символический аналог Константинополя. С этим сакральным местом связан детско-родительский комплекс русской культуры, ее вечная тоска по безвременно ушедшей Византии.
Наиболее выигрышной для «оттепельного» мифа традиционно считается тема прекращения незаконных репрессий и реабилитации. Само по себе это, наверное, единственное в действиях Н.С. Хрущева, что заслуживало бы позитивной оценки. Но и здесь есть ведро дегтя. Прямо скажем, не все репрессии были незаконными. И речь не только и не столько о разного рода диверсантах, которых сегодня назвали бы просто террористами. Хрущевская реабилитация напрямую коснулась представителей бывшей партийной элиты коминтерновского призыва, проигравшей в межфракционной борьбе. Именно они и их потомки помогали потом разваливать СССР. Следовало ли выпускать этих людей? Хуже того. Были освобождены члены бандеровского подполья - то есть, если называть вещи своими именами, свободу получили профессиональные нацисты, воспитавшие целые поколения тех, кто потом убивал и продолжает убивать русских. Именно с ними мы сегодня воюем. Следует ли считать бандеровскую реабилитацию частью «оттепели» и как воспринимать эти решения «мужицкого царя» Н.С. Хрущева и его сторонников?
Вообще о реабилитации жертв неправосудных процессов говорили и говорят много, но, как правило, избирательно. И это касается отнюдь не только хрущевского периода. Мне почти не приходилось слышать от либеральных критиков советского строя о «ленинградском деле» и о развитии этой идеологической линии позже, в 1980-е гг., при Юрии Андропове. Я почти не слышу о деле православного ВСХСОНа (Игорь Огурцов и его круг), хотя фигуранты дела ВСХСОН получили уже неслыханные в то время 15 лет. Не слышу и об Ирине Ратушинской с ее нетипичным взглядом на историю советского инакомыслия.
Либеральные хозяева дискурса о репрессиях не любят говорить об этих людях из-за разницы во взглядах. Социалисты, православные, националисты и просто те, кто отрицает «священные» Хельсинские соглашения – это явно не их поля ягоды. Думаю, не будет преувеличением сказать, что в этом отношении они уже тогда были солидарны с либералами из ЦК. Такими, как новый шеф КГБ Юрий Андропов, который был откровенным-западником и «русистов» (так он называл круг Игоря Огурцова) считал главной угрозой режиму. «Главная забота для нас — это русский национализм: диссиденты потом — их мы возьмём за одну ночь», — так характеризовал позицию Андропова один из участников ВСХСОН Л.И. Бородин. Примечательное и трогательное совпадение: как раз в тот момент, когда андроповское КГБ берет в разработку «националистов» (это их термин, хотя ВСХСОН по сути не были националистами), в западном радиэфире проходит серия передач о появлении в СССР движения «неославянофилов» (намного более адекватный термин для членов ВСХСОН, чем «националисты»). Надо ли объяснять, как все это влияло на позицию советской прокуратуры?
Кстати, в давно и безвозвратно свободной ельцинской России, в 1996 г Верховный Суд РФ… отказал Игорю Огурцову в реабилитации. Но это так, к слову.
Можно сказать, что с посадки Игоря Огурцова и членов ВСХСОН, а отнюдь не с горбачевских тирад, как раз и началась реальная «перестройка». Партийные верхи и руководство органов уже начали сдавать страну, хотя идейная база для капитуляции была подготовлена как раз в период правления Н.С. Хрущева.
Певцы и жрецы
Отдельно стоит сказать о шестидесятниках. Об этих - процитируем Булата Окуджаву - «бумажных солдатах» оттепели, ее «арбатских часовых» и «комиссарах в пыльных шлемах». А также, по совместительству, жрецах гуманизма и торговцах идейным секондхендом. Дефицитный томик Пастернака, антикварный постсигар и западные шмотки очень часто шли у них в одном пакете.
К слову, отдельной фракцией внутри этой партии стали барды. Их часто воспринимают как элемент брежневского застоя, но и они зародились в начале 60-х, со своей особой атрибутикой, куда входили: походная романтика, эмигрантская слеза, блатняк, шестиструнка и, позже, – «мафон». Почему барды так вышли в рост, мне кажется, очевидно.
Все дело в том, что гитара давала легальную форму публичности. Такую, которая сама себя организовывала и, так сказать, не оставляла отпечатков. Петь под гитару можно было где угодно: во дворе, на крыльце, на лужайке, на привале. Отсюда берет начало знаменитый КСП. «Мы ничего такого не пропагандируем, мы тут примус починяем…» Если в походе, то чуть что и рюкзаки оземь, «лыжи у печки стоят», а дальше - «возьмемся за руки, друзья» и «будем говорить друг другу комплименты». Зачем? Разумеется, чтоб не пропасть поодиночке (шепотом: «Когда мы вместе, они с нами ничего не сделают – вы понимаете…»). Фиги в кармане отрастали сами собой. Причем разной длины: от простого «здесь собрались приличные люди» до «Запад нам поможет». Порой подпускалась и блатная интонация, с общим прищуром на массу «советских», которых сегодня назвали бы серыми ватниками.
В их религии, состоявшей из Стругацких, Сахарова, Рыбакова и Таганки, почетное место занимали также Высоцкий, Галич и Окуджава. Последний, пожалуй, был наиболее знаковым и… на этом я бы, пожалуй, остановился. По-моему, это как раз такой случай, когда «если надо объяснять, то не надо объяснять». Особо интересующиеся могут набрать в поисковике рядом с его именем, скажем, «Шамиль Басаев» и посмотреть, что из этого получится…
Дальше можно было бы говорить о поэтах Политеха и «Трудно быть богом», но при этом текст неизбежно выйдет за отмеренные рамки. Поэтому ограничимся небольшим воспоминанием.
Однажды мне довелось беседовать с пожилым представителем этой «партии», литературным мэтром, одним из самых «центровых». Дело было в 2007-м, на Женевской книжной ярмарке, которую я посетил в качестве обозревателя. Пришло время интервью. Я задал вопрос о литературоцентризме, в том смысле, что литературоцентризм – это ведь нормально и естественно, и не только в России. Были ведь «у них» писатели, называемые совестью Запада, ну, там, Томас Манн, Альбер Камю… Мэтр поглядел на меня иронически. С каким-то удовлетворенным и даже просветленным лицом он сказал: «Скоро литература станет частью массового потребления. Приходя в супермаркет, мы будем говорить кассиру: «Пробейте мне, пожалуйста, три сардельки и два рОмана».
Он еще так напористо вокализовал это самое «о»…
На мой по-журналистски уместный, но по-человечески наивный вопрос - «Разве это хорошо и правильно?» - мэтр сделал жест в сторону окна и торжественно сказал, немного копируя знаменитого режиссера Таганки: «Идите и остановите прогресс!».
Мэтр ошибался лишь в одном. Уже очень скоро кассир не будет никому ничего пробивать. Живые кассиры, водители, операторы сохранятся для людей со средствами. Остальных будут обслуживать автоматы: так дешевле и удобнее. На деле это и есть то, что они вольно или невольно «приближали как могли». Приближали под вывеской прогресса и гуманизма. Это не что иное как самоотрицание гуманизма. Теперь нам предстоит жить в мире автоответчиков, где естественный интеллект вытесняется искусственным, мамы и папы – «родителями 1 и 2», фундаментальная наука – «инновациями», а культура в целом - цивилизацией.
На всякий случай: я ни разу не враг прогресса. Но я всегда предоставлял себе прогресс несколько иначе. Не в виде 222 способов коммуникации, 333 способов оптимизации, 444 гендеров, 555 романов и 666 видов сарделек. Но, например, как победу медицины над неизлечимыми болезнями и освоение дальнего космоса…
Небо здесь

Самое время теперь вернуться к тому, с чего мы и начали. К Космосу. Космос русский и космос советский – это, действительно отдельная и очень большая, почти неподъемная тема. Здесь и сейчас мы ее, конечно, не охватим. С другой стороны наши собеседники уже сказали все, что можно сказать о Циолковском, Вернадском и Николае Федорове. Поэтому остановимся лишь на некоторых ключевых моментах.
Конечно, для русской культуры с ее иконичностью, органикой, неприятием узкого юридизма и меркантилизма – вспомним извечные «Ты все пишешь…», «Контора пишет…» - Космос значит очень много. Космос – это неотъемлемая часть русского sensus divinitatis - «чувства божественного». Укажем хотя бы на то, что интерьер русского православного храма обустраивается как «отражение Неба на Земле», а не как вечная устремленность к Небу, которую демонстрируют нам готические соборы. И не случайно считается, что во время литургии, когда поют «Херувимскую», ангелы спускаются в пространство между притвором и алтарем и молятся вместе с прихожанами. Если бы для обозначения этого гештальта был нужен хештег, подошел бы такой: «#небоздесь»
И это особенно важно сегодня, в период нарастания вторичной религиозности в культуре. Отметим на всякий случай, что религиозность не исчезает из культуры полностью никогда, ни при секуляризме, ни даже при госатеизме, поэтому, собственно, отдельные философы обозначали СССР как «прикровенный Третий Рим».
Если мы внимательно посмотрим на самое популярное и растиражированное фото Юрия Гагарина, то увидим, насколько этот образ напоминает иконописный лик. Это не случайное совпадение. Другой пример. В известной песне рок-музыканта и композитора Юлии Теуниковой «Гагарин жив!» образ Гагарина предстает именно в религиозном качестве: «Гагарин жив, // Ведь как никто он знал полёт, такого он отведал, // что не прочухал в самых тонких снах несчастный Кастанеда. // Он с хищным эго совладал и превратил его в нажим, // в нём проявился русский дух, а этот дух неудержим, // и наш народ ещё проснётся и покажет диво див». Это очень точное попадание в один из сакральных центров нашей культуры.
Научно-технический романтизм, свойственный советской культуре, растет именно отсюда – из синтеза религии и науки. Как и чаемые Николаем Федоровым телесное воскресение и победа над «последним врагом», то есть смертью. Как и мера синкретизма и иконичность русского когнитивного стиля в целом, чуждого любой технократии, но тем успешнее родившего русский инженерный гений.
По этой модели строится и русский социализм, имеющий целью соединить библейскую этику с ростом технологий, что прямо противоположно принципу технократии. То есть, в терминах Хайдеггера, это «техне», а не «постав». Вспомним детский фильм «Приключения Электроника», центральный мотив которого – превращение работа в человека. Тогда как сегодня, в условиях глобального капитализма, осуществляется прямо обратное: уподобление естественного интеллекта искусственному, эксплуатация человеческих нейроресурсов цифровыми системами, создание алгоритмизированных сообществ…
Посмотрим, что говорят о связи космизма и иконичности в русском сознании наши враги. Причем самые умные из них, в лице канадского философа Маршалла Маклюэна, подарившего в свое время публике «электронную деревню», «медиасреду как продолжение нервной системы человека» и еще несколько мемов. В статье «Оружие. Война икон», написанной как раз в начале 1960-х, Маклюэн пишет: «Русская девушка Валентина Терешкова вышла на околоземную орбиту. Первая женщина-космонавт преподносится Западу как маленькая Валентина, как биение сердца, приспособленное к нашей сентиментальности… Подрыв коллективного самообладания идет уже давно, при этом в новую электрическую эпоху информации отсталые страны имеют ряд специфических преимуществ над высокоразвитыми письменными и индустриализованными культурами. Ибо в отсталых странах есть привычка и понимание устной пропаганды и убеждения, тогда как в индустриальных обществах они давно уже выветрились. Русским достаточно адаптировать свои традиции восточной иконы и построения образа к новым электрическим средствам, чтобы быть агрессивно эффективными в современном мире информации. Идея Образа, которую с огромным трудом пришлось осваивать Мэдисон-авеню, была единственной идеей, которой уже располагала русская пропаганда. Русские не проявили в своей пропаганде ни изобретательности, ни работы воображения. Они просто делали то, чему их учили религиозные и культурные традиции, а именно — строили образы».
Так соединены космос, культура и пропаганда.
Глубинное царство
На этом месте стоит сделать оговорку. Маклюэн прав,. связь космоса с иконой в русской культуре очевидна. Но связь эта существует потому что русский «космос» - не совсем то же самое, что греческая эйкумена с ее полицентризмом и струениями эфира. Строго говоря, это не античный cosmos, но скорее olaf – арамейский аналог «космоса».
Данная особенность во многом определяет понимание русской культурой пространства как такового. И внешнего, и социального, и пространства истории (читай: эсхатологического). Последнее имеет особое значение в связи с хилиастической религиозностью и сектантскими традициями крестьянской Руси. Именно эта «народная историософия» определяла и отношение к событиям 1917 года. Революция опознавалась значительной частью крестьянского населения как аналог Страшного Суда. Если угодно, это была репетиция Страшного Суда и предшествующего ему Апокалипсиса. Именно поэтому ужасы и кровавые казни мало кого пугали: ведь «именно так оно все на самом деле и должно быть». Это был жутковатый соборный теозис. Итоги революции читались в контексте евангельского «И последние станут первыми» и воспринимались как всеобщее поравнение людей, которые, как известно, «равны перед Богом».
Разумеется, революционное начальство, от Ленина и Троцкого до Кобы мыслило совершенно иначе, но народную мифологию понимало и всецело учитывало.
Если копнуть глубже, будет понятно, что этот взгляд отражает глубинное понимание русской истории самими ее участниками. И это понимание подразумевает, что Россия есть последнее истинное христианское царство. Со времен Петра, а то и Никона русское царство безблагодатно, и Антихрист уже на пороге. Антихрист этот и есть тот самый Капитал, о котором старательно толкуют нам «большаки» - чудище о многих голов. Вот и требовали в 1917-м как минимум «сотни голов буржуазии», как писал Иван Бунин в своих «Окаянных днях». Поражения в японской и Первой мировой были истолкованы так: Господь от России отвернулся, пришли последние времена. И вот он, революционный Армагаддон, открывай ворота.
На этом месте приличная публика должна поморщить нос и обронить что-нибудь вроде «Поднялась хтонь…». И напрасно. Не ваши ли сторонники, господа приличные, в феврале 1917-го подначивали расстреливать офицеров и выходить на улицу?
Но главное заключается в другом. Против кармы не попрешь, и архетипы на кривой козе не объедешь. Их невозможно игнорировать. Носители идеи специфической русской революционной эсхатологии вышли на историческую сцену еще при Пугачеве, который ввел крестьянскую монархию без дворян и бюрократии, раздавал землю и жаловал крестьян «крестом и бородою», то есть принимал назад, в старую веру. Это и был вариант Мужицкого Царства, как о том говорят сегодня «Новые скифы». И хотя это Глубинное Царство (лично я предпочитаю такое название) едва ли могло поглотить всю Россию, но подспудно, «прикровенно» всегда жило в пространстве русского мира, под слоем петербургской лепнины.
Иногда энергия этого царства пробивалась на поверхность. Она и смела дворянскую империю. И откровенно говоря, не только для красных или зеленых, но и для белых революция была Страшным судом. Все хотели отделить «чистых» от «нечистых» и творить космос истории. Просто позиция красных была в тот момент ближе к этой глубинной традиции. И главную роль здесь, похоже, сыграло отречение Николая Второго и падение монархии. Когда эти скрепы были сняты (чего делать не надо было) и страна посыпалась, «глубинное царство» вновь выросло из Земли русской, как это было при Пугачеве, Разине и еще раньше, при Минине и Пожарском. Радикальная большевистская интеллигенция лишь ловила ветер истории и меняла наклон паруса.
Полис и Пустошь
Иначе говоря, произошел пассионарный взрыв. В тот момент многие в России это чувствовали - сильнее многих, к примеру, Александр Блок, отсюда и его «Двенадцать». Причем пришелся этот взрыв на изысканно-пресыщенный Серебряный век с его «полуразумным полубезумием» (Марина Цветаева) и избыточной тонкостью. Но где тонко, там и рвется…
Но и это не последний смысловой слой происходящего.
Если смотреть еще более фундаментально, это был спор не Москвы с Петербургом и даже не Китежа с Петербургом и его карманной Москвой. Это спор Полиса и Пустоши.
Полисный тип демократии чужд Пустоши. Поскольку свобода Пустоши – это свобода выбора между добром и злом, а еще - свобода Исхода от фараона и Вавилона. С точки зрения людей Пустоши, Полис не нуждается ни в каком реформировании и улучшении «институтов». Полис следует крестить, но если это невозможно, из Полиса можно только уйти, на худой конец даже «в себя». Третьего не дано. Ибо сказано: «Да будет слово ваше: да,да: нет,нет; а что сверх этого, то от лукавого» (Мф. 5:37).
Глубинное царство, подземный Третий Рим, — и есть искомый национальный культурный код. Не единственный, но один из главных. И связанный с ним метасюжет – важнейший компонент подлинной, а не выдуманной либералами-глобалистами гражданской религии. Игнорировать, а тем более обесценивать эту семантику не следует. Дороже выйдет. Обо всем этом, конечно, много раз было сказано, ну, хотя бы и Николаем Бердяевым в «Истоках и смысле русского коммунизма». Сказано, да не усвоено. Значит, придется повторять вновь.
Сегодня история вновь входит в период идеального шторма.
И музыканты, как люди очень чуткие к колебаниям среды, не могут этого не чувствовать.
Похоже, близка к завершению та модель общества и культуры, которую породило Просвещение и Французская революция. Заканчивается век гуманизма, либерализма и капитализма. Протестантская этика больше не будет «общечеловеческой».
Нам кажется, расстаться с этой культурой можно с легким сердцем.
Она была основана на системном разрыве с собственной традицией. По существу это революционная культура, и коммунизм – лишь одна из ее «революций», во многом направленная против предыдущих, то есть, контрреволюция.
Но об этом мы можем поговорить в следующей статье.
А сейчас хотелось бы сказать нашим собеседникам, что время дорого. Здание понемногу сыпется. Но пока человек сидит внутри рушащегося дома, он не может выйти и перебраться «на другую сторону» улицы - Break On Through (To the Other Side), как пели во время оно The Doors.
А помещение надо покинуть до того как окажешься под грудой кирпичей. Сегодня это значит – избавиться от либеральных догм и стереотипов, выдавить из себя цивилизатора и конкистадора и произвести переоценку ценностей.
К этому мы искренне призываем наших уважаемых оппонентов.